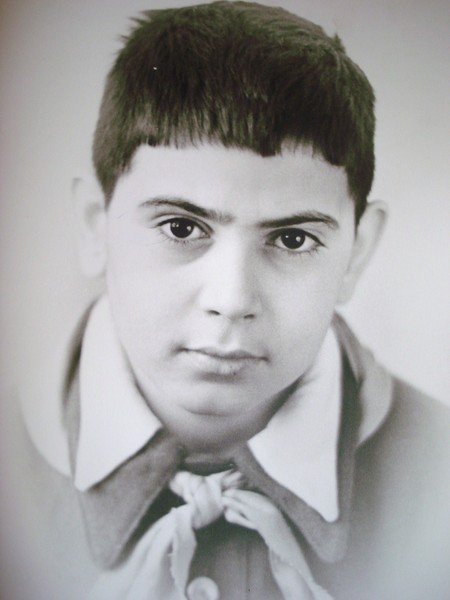- „Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. — «Ромео и Джульетта»“
- Похожие цитаты
- „Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.“
- „Роза любви, как роза ветров.“
- „Мотылёк не спрашивает у розы: лобызал ли кто тебя? И роза не спрашивает у мотылька: увивался ли ты у другой розы?“
- „Ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розу.“
- „Идеалист — человек, который, заметив, что роза пахнет лучше капусты, заключает отсюда, что и суп из нее вкуснее.“
- „Вот вы и я: подобье розы милой“
- „Если дорога усыпана розами, ее лучше обойти.“
- „С роз опадают лепестки, но не тернии.“
- „Шипы — это принудительный ассортимент к розе.“
- „Где розы — там и тернии — Таков закон судьбы.“
- „Любовь слепа, и роза — её трость.“
- „Тот, кого страшат шипы, Не заполучит розы.“
- „Подобно как в саду, где роза с нежным крином“
- „Я был рожден, чтобы толкать розы по аллее мертвых.“
- „Вместо того, чтобы сетовать, что роза имеет шипы, я радуюсь тому, что среди шипов растет роза.“
- „Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном.“
- В поисках имени розы (роман Умберто Эко)
- Что значит имя фиалка пахнет розой
„Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. — «Ромео и Джульетта»“
Уильям Шекспир 179
Похожие цитаты
„Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет.“
— Уильям Шекспир английский драматург и поэт 1564 — 1616
«Ромео и Джульетта»
„Роза любви, как роза ветров.“
О любви, верности, измене
„Мотылёк не спрашивает у розы: лобызал ли кто тебя? И роза не спрашивает у мотылька: увивался ли ты у другой розы?“
— Генрих Гейне немецкий поэт и писатель 1797 — 1856
„Ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розу.“
— Станислав Ежи Лец польский поэт, философ, писатель-сатирик и афорист XX века 1909 — 1966
„Идеалист — человек, который, заметив, что роза пахнет лучше капусты, заключает отсюда, что и суп из нее вкуснее.“
— Генри Луис Менкен американский журналист, эссеист, сатирик 1880 — 1956
„Вот вы и я: подобье розы милой“
— Пётр Андреевич Вяземский князь, русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель 1792 — 1878
„Если дорога усыпана розами, ее лучше обойти.“
„С роз опадают лепестки, но не тернии.“
„Шипы — это принудительный ассортимент к розе.“
— Эмиль Кроткий российский и советский поэт, сатирик, фельетонист 1892 — 1963
«Отрывки из ненаписанного»
Источник: Цит. по кн.: Эмиль Кроткий. Сатирик в космосе. Серия «Библиотека Крокодила». Москва, издательство «Правда», 1959.
„Где розы — там и тернии —
Таков закон судьбы.“
— Николай Алексеевич Некрасов российский поэт, писатель и публицист, революционер-демократ 1821 — 1878
„Любовь слепа, и роза — её трость.“
— Серж Генсбур французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, актёр и режиссёр 1928 — 1991
„Тот, кого страшат шипы,
Не заполучит розы.“
— Энн Бронте английская поэтесса и романистка 1820 — 1849
But he, that dares not grasp the thorn
Should never crave the rose.
«The Narrow Way»
Цитаты из стихотворений
„Подобно как в саду, где роза с нежным крином“
— Николай Михайлович Карамзин русский историк, писатель, поэт и переводчик 1766 — 1826
„Я был рожден, чтобы толкать розы по аллее мертвых.“
— Чарльз Буковски Американский писатель 1920 — 1994
„Вместо того, чтобы сетовать, что роза имеет шипы, я радуюсь тому, что среди шипов растет роза.“
— Жозеф Жубер французский писатель 1754 — 1824
„Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном.“
— Дейл Карнеги американский педагог, психолог, писатель 1888 — 1955
Источник
В поисках имени розы (роман Умберто Эко)
«Роза при имени прежнем – с нагими мы впредь именами», — так переводят последнюю фразу романа Умберто Эко «Имя розы». Оттолкнемся от названия: почему же выбран именно этот символ? Разумеется, ввиду его потенциальной многозначности, о чем упоминал и сам автор. Итак, в суфийской поэзии (суфизм – аскетическое направление в исламе, в основе которого лежит представление о необходимости борьбы с человеческими пороками) роза символизировала любовь к Богу, и суфизм зачастую определяют как «путь розы». Сапфо называла ее «царицей цветов», а древнегреческий лирик Анакреонт – «любимым цветком муз». Кстати, с древнеперсидского само слово переводится как «дух», а в христианской традиции это символ Богородицы (роза без шипов – Дева Мария, безгрешная и невинная). Христианский контекст ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как действие романа происходит в монастыре. Но между тем название вызывает ассоциацию с шекспировским высказыванием: «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». В конце повествования Адсон размышляет о том, что его рукописи, возможно, никому не нужны, и, чтобы понять эту установку, нужно обратиться к анализу текста.
Итак, «Имя розы» — это постмодернистский роман, поэтому представляет собой настоящий лабиринт, «сад расходящихся тропок», среди которых невозможно отыскать ту, что однажды стала первопричиной. Не существует единой истины, жизнь складывается из бесконечного количества возможностей и вариантов. Надо сказать, что Умберто Эко – замечательный мистификатор, и его произведение подается как рукопись, найденная переводчиком, причем значительно переработанная, личность монаха-бенедиктинца Адсона также остается загадкой, а значит, мы имеем дело с «ненадежным рассказчиком». Переводчик задумывается: что, если это фальшивая рукопись, и никакого Адсона (чья фамилия настойчиво напоминает нам о помощнике Шерлока Холмса Ватсоне) никогда не существовало? Автор заставляет читателя сомневаться во всем с самого начала и до конца.
«Имя розы» кажется нам образцом детективного жанра, ведь сыщик и его помощник приглашаются в аббатство с целью расследования убийства монаха Адельма и в итоге оказываются в центре целой серии преступлений. Но опять же следует учитывать, что это не детектив вообще, а пародия, отталкивающаяся от канонов классического жанра. В роли Шерлока Холмса – любимый учитель Адсона Вильгельм Баскервильский, товарищ философа-номиналиста Уильяма Оккамского. Вильгельм в ходе расследования рассматривает множество вариантов, считая каждый из них потенциально правильным. Казалось бы, это не совсем соответствует бритве Оккама, гласящей: «Не преумножай сущности сверх надобности». Однако вспомним интерпретацию учителя: «Мой друг Оккам отрицает не оттого, что предосудительно отгадывать помыслы Божии, а напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Зачем преумножать, если достаточно принять множественность?
Согласно философии номинализма, реально существуют только конкретные вещи, тогда как идеи, отвлеченные понятия имеют место исключительно в нашем сознании. Одинаковых людей нет, значит, каждая личность наделяет те или иные абстрактные категории индивидуальными особенностями. Это представление не противоречит важнейшему постмодернистскому принципу «мир как текст». Так, основным источником всех преступлений оказывается книга, не дошедшая до нас вторая часть «Поэтики» Аристотеля. Примечательно, что в ней говорится о значении комического и всепоглощающей силе смеха. Возможно, теория древнегреческого философа доведена до абсурда: смех становится главным толчком, подрывающим основы мироздания. Обличая пороки и показывая действительность в уродливых формах, он способен уничтожать боль и изживать страх.
По мнению слепого библиотекаря Хорхе (вспомним другого библиотекаря и писателя Хорхе Луиса Борхеса, автора сборника «Сад расходящихся тропок»), хранителя «странной» книги, мир, растворенный в звучащем смехе, обречен на гибель. И вот тут Умберто Эко проводит параллель между реальностью, находящейся на грани опасности, и литературой постмодернизма, где аннигилируется смысл, деконструируются стереотипы, автор умирает (именно поэтому переводчик не может установить личность Адсона), а ирония и черный юмор оказываются во главе угла. Постмодернистский текст – это центон, из-за чего читателю кажется, что его водят за нос. Монастырская библиотека – такой же лабиринт, откуда сбежала сама Ариадна, оборвавшая все нити. Как в литературе единственный выход – крушение всего, что некогда признавалось ценностями, так и для библиотеки закономерный конец – уничтожение. После пожара, Апокалипсиса в миниатюре, от книг остались лишь фрагменты. Адсон собрал отрывки, дополнив каждый из них, исходя из собственного читательского опыта, но они все равно остались незавершенными. И эта незавершенность характерна для постмодернистского мира в целом: обретение истины невозможно, потому что каждая из множества интерпретаций является верной и неверной одновременно, одна наполняет историю смыслом, а другая отрицает первую и так далее. Вот она, самая важная мысль Эко: мы находимся в жерле взаимоисключающих причин и следствий.
Итак, вернемся к истории, жанр которой не сводится исключительно к детективу. На протяжении повествования поднимаются различные философские проблемы, например, должна ли церковь быть бедной, можно ли поставить в один ряд влюбленность в женщину и любовь к Богу, или первая – дьявольское наваждение, является ли мужеложство неискупимым грехом. Особенно стоит обратить внимание на рассказ о секте францисканцев-спиритуалов. Отмечается, что еретики готовы умереть, нежели отречься от той ереси, в которую они веруют. Смерть выглядит особенно жуткой потому, что наличие какой бы то ни было истины, как уже говорилось, отрицается. Это доказывает и разрушение библиотеки, которая была «непроницаемой, как истина», но именно кладезь мудрости, как ни парадоксально, ограничивает монахам доступ к знанию. Те же, кто захотел прикоснуться к пропитанным ядом страницам таинственной книги, погибли с черными пятнами на подушечках пальцев. Доподлинно известно, что до вкушения плода от древа познания добра и зла Адам и Ева оставались в неведении и были счастливы. Однако ироничен тот факт, что роль Бога, определяющего правила, берет на себя обыкновенный человек Хорхе, а это уже неприемлемо для простого смертного. Кульминацией романа можно считать полемику Вильгельма и Хорхе: «Ты. Тебя обманули. Дьявол – это не победа плоти. Дьявол – это высокомерие духа». Единственная истина, оказывающаяся в произведении аксиомой. Человек, стремящийся возвыситься над другими, живет во тьме и убивает собственную душу, исполняя волю Антихриста. Хорхе, не желающий покаяния, съедает книгу, прекрасно понимая, что умрет в страшных муках. Это еще одна жертва ложной истины, и потому он слеп не только в прямом смысле, но и слеп сердцем. Он считает себя правым, стремясь построить защитную крепость, создать рамки и чёткие границы для познания. Но оно неограниченно, и выстроенные башни рушатся, как карточные домики.
Хочется вспомнить последнюю строфу стихотворения И. Бродского «Одиночество»:
Да. Лучше поклоняться данности
с убогими ее мерилами,
которые потом по крайности
послужат для тебя перилами
(хотя и не особо чистыми),
удерживающими в равновесии
твои хромающие истины
на этой выщербленной лестнице.
Думается, диалог двух сильных личностей, втайне восхищавшихся друг другом, — самое прекрасное место в книге. С одной стороны, мы видим человека, боящегося перемен, слепца, плененного лжеучениями, выстроившего систему «хромающих истин», потому что так удобнее. С другой стороны – Вильгельм, описанный в начале повествования как человек, страстно преданный истинному знанию, в финале приходит к мысли о «бесконечном коловращении вероятностей» в мире. Каждый персонаж искал мифическую истину, потому что так комфортнее и спокойнее, к тому же знание чего-то особенного, наивысшего, способность к анагогическому толкованию сущего укрепляет авторитет. Однако Аристотель в «Поэтике» дискредитирует истину, заставляя ее смеяться над собой. Таким образом, серьезное отношение к миру невозможно и бессмысленно, а бытие длиною в текст – бутафория, фарс, насмешка над самими основами.
Вернемся к фразе: «Роза при имени прежнем – с нагими мы впредь именами». Считается, что у каждого творения Божьего должно быть имя; человек без имени – это пустая оболочка, тело без души. Значит, «нагие имена» — это порожние души, сосуды, которые невозможно заполнить до конца человеку ищущему. Библиотека, скрытая от любопытных глаз, — это тот лабиринт, который представляет собой человеческая душа, подчас именуемая народом потемками. Смысл блуждания по «саду расходящихся тропок» не в обретении истины, а в самом поиске, в бесконечном познании непознаваемого, и в этом заключается ирония человеческого существования.
Источник
Что значит имя фиалка пахнет розой
Откуда это? — « Роза пахнет розой, Хоть розой назови её, хоть нет. » роза
Это великий Шекспир «Ромео и Джульетта»
Восклицание естественно вкраплено в мучительные переживания Джульетты, связанные с тем, что юноша, которого она полюбила, принадлежит к враждебному роду, что его зовут Монтекки. Вот этот монолог полностью:
Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
(II, 2; перевод Б. Пастернака)
Думаю, что Джульетта права на все 100! Важно не имя, а человек, его носящий! Любое имя можно прославить или опозорить. Все зависит ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА!
Спасибо, эту цитату я вынес из далёкого советского далека. Такой вот опрос.
Хотелось статистики, кто в курсе цитаты классика?
«Она его за муки полюбила, а он её за состраданье к ним. » — фраза тоже несёт сакральный смысл.
Это великий Шекспир «Ромео и Джульетта»
Восклицание естественно вкраплено в мучительные переживания Джульетты, связанные с тем, что юноша, которого она полюбила, принадлежит к враждебному роду, что его зовут Монтекки. Вот этот монолог полностью:
Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
(II, 2; перевод Б. Пастернака)
Думаю, что Джульетта права на все 100! Важно не имя, а человек, его носящий! Любое имя можно прославить или опозорить. Все зависит ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА!
Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как-нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
От таких стихов действительно «бабочки в животе»
Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
__ Театральная притча: Я в этот день с трудом купил билет. Играли вновь «Ромео и Джульетту» – Четыре сотни лет знакомый свету, Волнующий классический сюжет. Во мраке склепа тусклый свет струился. Обманутый коварною судьбой, Ромео над возлюбленной склонился. Смерть у любви выигрывала бой… – Любуйтесь ею пред концом, глаза! В последний раз ее обвейте, руки! А зритель разделял и боль и муки, И взор ему туманила слеза. Трагический финал не за горами… У многих уж платки мокры от слез, Ребенок в зале жался ближе к маме, Когда Ромео яд к губам поднес. – Пью за тебя, любовь моя. И вдруг… – Не пей! – раздался детский крик из зала. Ромео вздрогнул, скляночка упала И покатилась, выскользнув из рук. И вот, в момент развязки этой драмы Ребенок, мальчик лет пяти-шести, Вбежал на сцену, вырвавшись у мамы, И что есть сил Джульетту стал трясти. – Жива она! Жива она! Жива! Вставай! Вставай, пожалуйста, Джульетта! Ромео, с изумленьем видя это, Сейчас же позабыл свои слова. Все ахнули: «Возможно ли? О, Боже!» Джульетта шевельнулась, ожила, И, приподнявшись с каменного ложа, Ребенка и Ромео обняла. Казалось, от оваций дрогнул мир, Ну, кто бы мог подумать про такое! И долго зал рукоплескал им стоя, И, может быть, им хлопал сам Шекспир…
Шекспир В. Сонет № 141. «Мои глаза в тебя не влюблены…»Мои глаза в тебя не влюблены, –Они твои пороки видят ясно.А сердце ни одной твоей виныНе видит и с глазами не согласно.Ушей твоя не услаждает речь.Твой голос, взор и рук твоих касанье,Прельщая, не могли меня увлечьНа праздник слуха, зренья, осязанья.И все же внешним чувствам не дано –Ни всем пяти, ни каждому отдельно –Уверить сердце бедное одно,Что это рабство для него смертельно.В своем несчастье одному я рад,Что ты – мой грех и ты – мой вечный ад.(Перевод С.Я. Маршака)
Прекрасный облик в зеркале ты видишь,И, если повторить не поспешишьСвои черты, природу ты обидишь,Благословенья женщину лишишь.Какая смертная не будет радаОтдать тебе нетронутую новь?Или бессмертия тебе не надо, -Так велика к себе твоя любовь?Для материнских глаз ты — отраженьеДавно промчавшихся апрельских дней.И ты найдешь под, старость утешеньеВ таких же окнах юности твоей.Но, ограничив жизнь своей судьбою,Ты сам умрешь, и образ твой — с тобою.
Шекспир «Ромео и Джульетта»
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
Сонет № 141. «Мои глаза в тебя не влюблены…»Мои глаза в тебя не влюблены, –Они твои пороки видят ясно.А сердце ни одной твоей виныНе видит и с глазами не согласно.Ушей твоя не услаждает речь.Твой голос, взор и рук твоих касанье,Прельщая, не могли меня увлечьНа праздник слуха, зренья, осязанья.И все же внешним чувствам не дано –Ни всем пяти, ни каждому отдельно –Уверить сердце бедное одно,Что это рабство для него смертельно.В своем несчастье одному я рад,Что ты – мой грех и ты – мой вечный ад.(Перевод С.Я. Маршака)
Крылатый мальчик мой, несущий бремяЧасов, что нам отсчитывают время,От убыли растешь ты, подтверждая,Что мы любовь питаем, увядая.Природа, разрушительница-мать,Твой ход упорно возвращает вспять.Она тебя хранит для праздной шутки,Чтобы, рождая, убивать минутки.Но бойся госпожи своей жестокой:Коварная щадит тебя до срока.Когда же это время истечет, -Предъявит счет и даст тебе расчет.Сонет №126
Мадам, Вы так бледны и так печальны,И на ресницах искоркой — слеза.Мадам, Вы это знали изначально:Все о любви пустые словеса. Давайте выпьем по бокалу виски!И всё пройдёт, как утренний туман.Вы шепчете: «Ах, были мы так близки. «Вы так наивны, о, какой шарман!Позвольте, я укрою Ваши плечиБоа собольим. Я же ведь и сам. Поверьте мне, что будут еще встречи -Мечтает каждый к Вашим пасть ногам!Поехали кататься до рассвета!Там, у дверей, нас ждет кабриолет.И, если счастья в этой жизни нету,То и несчастья, значит, тоже нет.Уж горизонт горит зарёй несмелой,И сонные погасли фонари.И Вам совсем, признайтесь, нету дела,Куда ушел Ваш китайчонок Ли.
Издержки духа и стыда растрата -Вот сладострастье в действии. ОноБезжалостно, коварно, бесновато,Жестоко, грубо, ярости полно.Утолено, — влечет оно презренье,В преследованье не жалеет сил.И тот лишен покоя и забвенья,Кто невзначай приманку проглотил.Безумное, само с собой в раздоре,Оно владеет иль владеют им.В надежде — радость, в испытанье — горе,А в прошлом — сон, растаявший, как дым.Все это так. Но избежит ли грешныйНебесных врат, ведущих в ад кромешный?
1. Из истории происхождения и развития сонета:Сонет – это прежде всего лирическое стихотворение из 14 строк, написанное высоким поэтическим слогом в строговыдержанной форме .Слово Сонет происходит от итальянского «sonetto», выросшего в свою очередь из латинского «sonare» и обозначает в переводе ни что другое, как: звучать, звенеть.Местом и датой рождения сонета считается предположительно Сицилия 13 века.Во всём мире принято считать, что каноническая форма сонета достигла своего совершенства у Франческо Петрарки (1304 – 1374. Блестящие сонеты писали Данте и Микельанджело.Из Италии сонет перешел во Францию, где утвердился как классическая форма стиха в творчестве П. Ронсара (16 в.)В Англии первым сонетистом стал Э.Спенсер (1552-1599), который впервые ввёл в поэзию новую форму написания сонета: 3 катрена и 1 двустишие. Эдмунд Спенсер по праву считался Принцем английских поэтов.Прекрасные сонеты были написаны В. Шекспиром (1564-1616), Д.Мильтоном (1608-1674), носвоего апогея английский сонет достигает именно в творчестве Шекспира, ставшего для русских поэтов и литературоведов эталоном английского сонета и до сих пор называемого поэтому «шекспировским».
Лишь это имя мне желает зла.
Ты б был собой, не будучи Монтекки.
Что есть Монтекки? Разве так зовут
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки?
Неужто больше нет других имен?
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
Ромео под любым названьем был бы
Тем верхом совершенств, какой он есть.
Зовись иначе как-нибудь, Ромео,
И всю меня бери тогда взамен!
Театральная притча: «Я в этот день с трудом купил билет. Играли вновь «Ромео и Джульетту» – Четыре сотни лет знакомый свету, Волнующий классический сюжет. Во мраке склепа тусклый свет струился. Обманутый коварною судьбой, Ромео над возлюбленной склонился. Смерть у любви выигрывала бой… – Любуйтесь ею пред концом, глаза! В последний раз ее обвейте, руки! А зритель разделял и боль и муки, И взор ему туманила слеза. Трагический финал не за горами… У многих уж платки мокры от слез, Ребенок в зале жался ближе к маме, Когда Ромео яд к губам поднес. – Пью за тебя, любовь моя. И вдруг… – Не пей! – раздался детский крик из зала. Ромео вздрогнул, скляночка упала И покатилась, выскользнув из рук. И вот, в момент развязки этой драмы Ребенок, мальчик лет пяти-шести, Вбежал на сцену, вырвавшись у мамы, И что есть сил Джульетту стал трясти. – Жива она! Жива она! Жива! Вставай! Вставай, пожалуйста, Джульетта! Ромео, с изумленьем видя это, Сейчас же позабыл свои слова. Все ахнули: «Возможно ли? О, Боже!» Джульетта шевельнулась, ожила, И, приподнявшись с каменного ложа, Ребенка и Ромео обняла. Казалось, от оваций дрогнул мир, Ну, кто бы мог подумать про такое! И долго зал рукоплескал им стоя, И, может быть, им хлопал сам Шекспир…
Источник