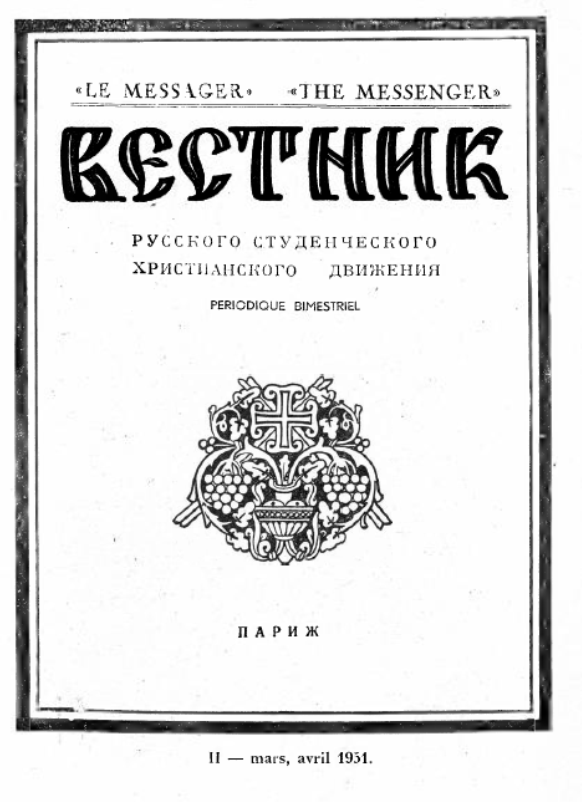Проблема духовности. Что значит быть духовным человеком? (ЕГЭ по русскому)
Принято считать, что духовный человек – это человек образованный, интересующийся искусством, человек из «высшего общества». Симон Соловейчик в данном тексте рассуждает над этим утверждением, отвечает на вопросы, как жить духовной жизнью и что есть эта духовная жизнь.
Для автора вышесказанное является неточным определением духовности. «Духовность не то, что культура поведения или образованность», — пишет автор. Конечно же, разница между духовным человеком и не духовным отчётливо видна.
Духовность должна зарождаться в душе, поддерживать собственный дух человека. Беседуя с читателями, автор рассказывает о том, что есть и люди совершенно бездуховные, когда человек не сталкивался в жизни с высшими духовными стремлениями. «Добрый и работящий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот». По-настоящему духовный человек не интересуется искусством ради развлечения. К искусству его влечёт желание найти собеседника, душевно просветиться.
Позиция автора по данному вопросу такова, что «духовная жизнь человека – это его собственное бесконечное стремление к добру, неутолимая жажда правды, ненасытный голод по красоте».
Трудно не согласиться с мнением автора. Духовность или бездуховность определяется тем, ради чего человек совершает то или иное действие.
Проблема духовности является одной из самых масштабных проблем в литературе. К ней обращаются многие авторы, в том числе и Антон Павлович Чехов в рассказе «Ионыч», в котором отчётливо показывает, какими недуховными могут быть люди. Автор описывает жизнь семьи Туркиных, являющейся самой образованной, культурной и талантливой, по мнению других жителей, в городе. Вера Иосифовна писала романы, в которых никогда не было того, что есть в реальной жизни. Глава семейства, Иван Петрович, развлекал гостей однообразными анекдотами, услышанными ещё в молодости. Дочь Туркиных, Котик, считала себя великой пианисткой, но играла так, словно камни сыплются с горы. И именно земский врач Старцев, поначалу восхищавшийся Туркиными, увидел настоящую некультурность, бесчувственность и необразованность семьи.
Наравне с недуховными людьми, в русской литературе существует множество духовных героев. Так, в романе Льва Толстого «Война и мир» ярким примером духовного человека является Наташа Ростова. Ей свойственны такие качества, как открытость, самоотверженность, Наташа переживает за каждую живую душу рядом. Девушка помогает своей матери духовно раскрыться, когда упрекает графиню в том, что она отказывается брать раненных солдат, вместо которых она собиралась вывозить все материальные ценности, с собой. На протяжении всего романа духовность Наташи заставляет любого читателя её любить, ценить и уважать.
Таким образом, точно дать определение духовной жизни трудно. Но точно ясно, что духовность — важнейший критерий оценивания культуры человека.
Источник
Зеньковский В., прот. Духовные проблемы нашего времени
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
прот. Василий Зеньковский
ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Наше время исключительно богато трудностями и проблемами. Одна ликвидация войны со всеми теми потрясениями, которые она вызвала, так трудна и сложна, что может целиком поглотить .наше внимание, не говоря уже о других острых и серьезных проблемах. Среди этих очень важных и мучительных задач, духовные проблемы как бы заслоняются ими, отодвигаются как бы на второй план, рискуют остаться неразрешенными или быть затронутыми лишь частично и поверхностно. Между тем все внешние проблемы современности уходят своими корнями в ту духовную смуту, которая давно уже назревала в человечестве. Недавняя страшная буря внешне уже ушла, но внутреннее расстройство, внутренняя смута продолжают еще царить. Это и выдвигает духовные проблемы на первое место.
Конечно, основной источник всех внутренних трудностей, через которые проходит наше время замечается в том, что человечество, хотя и отошло от Христа и Его Церкви, но живет все-же как раз темами, которые поставляются миру как раз христианством. Человечество не в силах отказаться от тех идеалов, которые вложены нам в душу христианством (идеал братства, свободы, единства), но не хочет и идти к этим идеалам путями христианства.
Оно хочет принудительно провести нас к братству, на путях насилия водворить свободу. В этих противоречиях и сказывается вся глубина той духовной смуты, которой мы болеем.
В обозрении основных духовных проблем нашего времени я хочу привлечь ваше внимание только к трем, но самым важным и существенным.
Прежде всего укажу на глубокое крушение прежней психологии культурного человека. Эта прежняя психология была внутренне довольно сложна, но все же достаточно гармонична, а потому и влиятельна. Она сложилась на заре нового времени (XV, XVI века), окончательно была формулирована в XVIII, как учение о прогрессе, проявила огромную творческую силу в XIX веке — но в XIX же веке началось и медленное ее разложение. В ее основе лежала вера в человека, в его «естественное» благородство, в силу его разума, способного распутать самые запутанные узлы, вера в неизбежное торжество в истории справедливости и правды. Эта вера в «разумность» жизни и истории, вера в грядущее торжество правды смягчала для людей все дефекты строя жизни, все несправедливости, мирила с «временным» торжеством зла, зажигала души творческим оптимизмом, увлекала и призывала не унывать и работать для «идеала». Даже средний обыватель, всецело уходящий в свои личные дела, и тот согревался у огня этой веры, питался ею. Однако, зловещим спутником этой веры в прогресс был все возрастающий дух утопизма. Он заметен уже в XVII веке, но разгорается преимущественно в XVIII в., а затем достигает исключительной силы, в XIX в., — свидетельствуя о внутреннем опустошении, все нараставшем в европейском человечестве. Утопизм вообще тем ярче, чем более убога и бедна жизнь, и если вера в прогресс создавала рядом с собой утопическую установку, это уже одно говорило о том, что сама вера в прогресс имела под собой внутреннюю беспочвенность. И утопизм, сначала мечтательный, становится позже носителем революционной идеи, что уже ясно говорило, что вера в прогресс стала тускнеть.
Начиная с середины ΧΙΧ -го века начинает пышно расцветать «этатизм» — т. е. стремление все вопросы жизни разрешать с помощью государственной власти. Этатизм доходит до крайнего сво-
его выражения в XX в. и коммунизм, и фашизм, и национал-социализм содержат в своей основе только этатизм.
Здесь уже нет по существу веры в прогресс, нет веры в то, что история «сама» движется к идеалу, — и оттого приходится все реформы проводить насильно, опираясь на власть.
Какое крушение прежней веры в историю, какое крушение историософского оптимизма! Государство вмешивается во всю жизнь, начинает в новейшем этатизме навязывать обязательное мировоззрение, становится тираническим, не считается с личностью, с ее «естественными» правами. В философии истории исчезает прежний рационализм, история кажется сплошь иррациональной («в истории все импровизируется» говорил еще Герцен). «История никуда не идет» гласит формула трагического умонастроения у него же, и в этой формуле уже нет веры в прогресс, ни веры в Промысел, управляющий историей, в ней крик отчаяния.
Ко всему этому в XIX веке присоединилось явление само по себе отрадное и дорогое, но при нынешнем духовном стиле жизни необыкновенно усложняющее все. Я имею ввиду факт широкой, ныне уже совершенно неизбежной демократизации, при которой массы выступают на сцену истории. Пока история делалась кучкой «наверху» стоящих людей, все было проще и легче, — ныне же все стало сложно, громоздко. Массы стремятся овладеть тем, что имели раньше «верхи», и отсюда идут те явления «стандартизации», которые ведут к царству шаблона, к торжеству «среднего», «серого» человека. Даже парламентаризм, имеющий в своей основе веру в народ, оказался торжеством «числа» (т. е. большинства); гениальности ждать от парламента не приходится. Парламентаризм принес с собой страшную демагогию (в стремлении овладеть массами), и это неизбежно -привело к понижению -среднего морального уровня.
Ныне перед нами настоящее торжество «мещанства» (в духовном смысле). Его предсказывал еще Гоголь (в Чичикове), оно наполняло глубочайшим отвращением Герцена (в его гениальных книгах «С того берега», «Начало и Конец»), ненавистью и гневом Леонтьева, — и, конечно, торжество мещанства несет с собою полное крушение былой веры в прогресс, в «благородство» в истории.
Ныне мы стоим у крайней точки этого крушения. Недавно пережитая трагедия свидетельствует о том, что в современном четовечестве больны самые истоки его творчества, что в самом духе его есть какое-то гниение, страшная болезнь. Жить прежней верой в прогресс уже -невозможно, а без него как же обрести вдохновение для честного и творческого служения людям? Такова первая, грозная, мучительная духовная проблема нашего времени.
Вторая существенная тема нашего времени — тема о человеке.
Прежняя вера в прогресс была вместе с тем верой в человека, даже была культом человека. Гуманизм, развившийся в XV — XVI в., однако. медленно превращается в «человекобожество» (вспомним слова Горького: «Человек — это звучит гордо»),
Абсолютирование личности, превозношение полной «автономии» личности — новейшие претензии человека манили увлекательными перспективами, питали гордость и самопревознесение человека. Б’ этом как бы завершилась, идеология прежней эпохи, — а в то же время уже с конца XVIII в. (особенно в Германии, в «эпоху бури и натиска») начинает неожиданно обнажаться глубочайший аморализм этой «автономной» личности. В XVIII в. возникает замечательная попытка прикрыть этот аморализм с помошью эстетики, возникает так называемый «эстетический гуманизм», в котором много гуманистической риторики, а движущей силой которого является культ эстетических переживаний. Этот процесс идет в XIX в. с лихорадочной быстротой. В этом смысле не случайны слова одного моего коллеги, профессора права в одном европейском университете: «Я не краду, потому что мне это эстетически противно».
Это значит, что чисто моральных оснований он, честный, бесстрашный аналитик жизни, уже не решился указать. По крылатым словам Леонтьева всюду стала воцаряться «поэзия изящной безнравственности»; дело идет уже только о том, чтобы «безнравственность» была изящной, — и тогда современный человек будет спокоен.
Раскольников договорил до конца весь этот строй мысли, когда решил, что, если позволено Наполеону губить десятки тысяч людей и не быть осужденным за это, то и он без всяких сомнений может убить старушку ростовщицу.
Бесчеловечность, достигшая ныне своего апогея, превращение моральных тем в условную, ничем не вдохновляющую риторику, «поэзия изящной безнравственности» — таковы страшные черты современного человека.
Подлинное добро, чистосердечная преданность добру еще возможны у «наивных» людей, а «культурный» человек, «автономный» и полагающийся на себя, освобожденный от «наивности» должен признаться, что красть или убивать он не может лишь потому, что это «эстетически» противно.
То, что я говорю о современном человеке, не есть клевета. Все это слишком трагично, чтобы еще присочинять; посколько человек думает держаться «самим собой», посколько он имеет претензии на «автономность», — должно сказать, что духовная опустошенность есть, увы, факт. Это значит ведь только то, что невозможно верить в человека, как такового; надо понять, что цен-
ность человека определяется прежде всего тем, чему он предан, чем вдохновляется.
«Новым» современный человек мог бы стать, если бы он подчинил себя высшей правде Божественной, т. е. если бы наступило воспламенение души («духом пламенейте» — завещал Ал. Павел), о добре и правде, т. е. о Боге.
Но это ставит нас перед третьей и самой существенной духовной проблемой нашего времени — перед темой религии и Церкви. Если иссякли духовные силы человека, если надорвана вера в разумность истории, разве не обладает наша современность нерастраченным еще сокровищем Церкви? Не здесь ли лежит источник обновления?
Принципиально, конечно, да, но сама Церковь ныне так бессильна, так трагически ослаблена, что может ли она спасти мир? И не есть ли трагический надлом нашего времени по существу надлом именно Церкви?
Нельзя усомниться в благодатной силе, присущей Церкви, в благодатной силе таинств, совершаемых в Церкви, но эта мистическая сила Церкви, питающая отдельные души, может ли повлиять на пути истории? Церковь стала для нас местом утешения, местом индивидуального, а потому интимного питания, но не местом спасения! Искупительная сила Голгофы, обновляющая сила Воскресения, хотя и питает «потаенную» сферу человека, хотя входит в его сердце, но из глубины сердца не выходит в жизнь и творчество. Мы не ищем в Церкви того, что ей дал Господь, мы еще больше именно через Церковь застываем в своем обособлении, и этот грех наш и обессиливает Церковь, лишает ее творческого преобразующего влияния на жизнь.
Действительно, бесценное сокровище Церкви, сила Св. Духа, в ней живущего, может нас преобразить лишь в том случае, если мы захотим· преодолеть наше обособление друг от друга. «Христианство в одиночку», атомизированное христианство еще поддерживает огонек в душе, но не может дать того воспламенения души, которое могло бы исходить в нас от Церкви.
(Конечно, дело идет не об отсечении тех, кто «в одиночку», т. е. для себя и только для себя хочет быть со Христом. Мы стоим, однако, перед неотложной задачей обновления жизни через Церковь, — а это невозможно при современном самообособлении лютей. Сила Церкви—в соборности, вне ее свет Церкви слабеет и не дает своего живительного действия.
Таковы основные духовные задачи, стоящие перед нами. Без усвоения того, что Церковь не только в (мистическом, но и в историческом плане есть основа жизни, живые ее силы не могут помочь нам выйти из того исторического тупика, в какой по-
пало человечество. Без этого невозможно современному человеку освободиться от «человеко-божеских» тенденций века сего и обрести в себе благодатные силы обновления. Без нового отношения к Церкви невозможно и создание новой психологии культурного творческого делания.
Источник
Духовные причины жизненных проблем
Иеромонах Платон (Флах) — кандидат философских наук, первый проректор Новосибирской Православной Духовной Семинарии, профессор Сибирского Независимого Института. С данным докладом иеромонах Платон выступил на семинаре «Милосердие и современность», прошедшем в Искитиме 30 мая 2013 г.

Дело в том, что в предложенном названии — «Духовные причины жизненных проблем» — есть два слова, которые настолько неопределенны и многозначны, что мы попадаем в ситуацию, когда можно будет говорить о чем угодно и в то же время ни о чем. Я имею в виду термины «духовные» и «проблемы».
Начну с употребления слова «проблема». Сразу хочется отметить, что это слово широко распространено и очень часто используется в нашей речи. Все привыкли употреблять его для определения таких ситуаций, в которых мы сталкиваемся с чем-то нежелательным, с тем, что приносит нам какое-либо страдание. Когда у нас все хорошо, мы говорим, что нет проблем. И наоборот, когда в жизни появляется что-то нежелательное, скорбное, тогда мы говорим, что у нас появились проблемы. На самом деле, зачастую нежелательные, негативные ситуации в нашей жизни, по сути, не являются проблемами. Давайте попробуем разобраться с этим.
Термин «проблема» заимствован нами из западной культуры, вернее, из науки, которая зародилась в Европе в эпоху Ренессанса и окрепла в эпоху Нового времени. В широком смысле «проблема» — это сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения; в науке — противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения. Важной предпосылкой успешного решения проблемы служит её правильная постановка. Неверно поставленная проблема или псевдопроблема уводят в сторону от разрешения подлинных проблем.
Сущность проблемы для человека такова, что требует анализа, оценки, формирования идеи, концепции для поиска ответа (решение проблемы) с проверкой и подтверждением опыта.
Проблемой преимущественно называется вопрос, не имеющий однозначного решения, то есть характеризующийся той или иной степенью неопределённости. Неопределённостью проблема отличается от задачи. Проблема отличается от обычной задачи еще тем, что для её решения недостаточно собственных ресурсов. Проблема решается с привлечением ресурсов со стороны.
А теперь давайте подумаем о том, с какими ситуациями мы сталкиваемся в жизни, какие вообще жизненные задачи мы решаем. Совершенно очевидно, что в процессе жизни человек решает бесчисленное множество различных задач. Но давайте посмотрим на них с точки зрения их сложности.
Типы задач с точки зрения их сложности.
Вообще в жизни встречаются задачи трех типов. Первый тип — это технические задачи, то есть такие ситуации, в которых мы применяем стандартный алгоритм действий и при этом у нас имеются все необходимые ресурсы для достижения цели. Такие задачи можно назвать задачами с достаточным объектом. То есть действующий субъект, это может быть отдельный человек или организация, находится в условиях, когда для решения задачи имеются все необходимые условия. А именно: действующему субъекту понятно, что конкретно нужно делать. Иначе говоря, есть определенная технология и умения, позволяющие ее использовать, и в наличии имеются все необходимые для решения задачи ресурсы. Эти задачи могут быть простыми или сложными. Сложные задачи можно свести к некоторому набору простых задач, как это, например, делается в организации с помощью распределения функций. Задачи такого типа имеют место в большинстве ситуаций, возникающих в нашей бытовой стороне жизни и в сфере производства.
Второй тип задач — это собственно проблемы, то есть такие ситуации, в которых нет четкого алгоритма действий, имеется существенная неопределенность. И еще в таких ситуациях недостает некоторых необходимых ресурсов. Такие задачи можно назвать задачами с недостаточным объектом. При практическом решении таких проблем применяется творческий (эвристический) подход, который часто предполагает некоторый прорыв в области знаний и открытия ранее неизвестных ресурсов, необходимых для решения задачи. Задач такого типа в практической жизни намного меньше, чем задач первого типа, и их решение требует большой концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов. Проблемные ситуации встречаются как в частной жизни отдельных людей, так и в обществе в целом. Известны многие проблемы современного общества, такие как ухудшение экологии, экономические кризисы и т. д.
И, наконец, третий тип задач — это такие ситуации, в которых вообще непонятно, есть ли какое-либо решение или его нет. Их еще можно назвать жизненными или экзистенциальными в отличие от двух предыдущих видов задач, которые являются задачами целенаправленной деятельности человека и целевых социальных систем (целевых организаций). Это задачи не только с недостаточным объектом, но и с недостаточным субъектом. По сравнению с другими типами задач экзистенциальных совсем немного. Но зато они настолько важны, что без их решения вся остальная деятельность становится бессмысленной. Имеются в виду такие факты нашей жизни, как сама необходимость выживания, неизбежные страдания и смерть.
Традиционно решение экзистенциальных вопросов жизни было в компетенции религии. И хочется подчеркнуть, что существование религии обусловлено присутствием в нашей жизни упомянутых экзистенциальных задач. Именно поэтому религия всегда будет существовать в человеческом обществе.
Мы видим, что эти три типа задач могут быть сведены к двум. Первые два вида задач направлены на выживание. Третий тип задач имеет принципиально иной характер. Это вопросы не выживания, а жизни (существования). Это экзистенциальные вопросы. Именно на важность этих вопросов мне хотелось бы обратить особое внимание.
Еще с древних времен в греческой философии цель человеческой жизни чаще всего определялась как искусство избегать страданий (зла) и достигать наслаждения (блага). И этот закон с тех пор еще никто не отменял и не сможет отменить, так как он вытекает из самой природы человека.
Для того чтобы достичь успехов в решении задач жизни и деятельности и добиваться как личного, так и общественного благополучия, необходимо уметь, во-первых, распознавать, к какому типу задач относится та или иная жизненная ситуация, и, во-вторых, понимать, каким способом их можно решать. Мы должны уметь понять, где мы имеем дело с задачами выживания, а где — с экзистенциальными вопросами жизни.
Типы организаций
Для решения задач и проблем (1 и 2 тип), то есть для решения проблем выживания, в обществе создаются целевые организации, начиная с государства как аппарата управления и заканчивая небольшими предприятиями, относящимися к категории малого бизнеса. Целевых организаций много, и каждая из них направлена на достижение тех или иных задач, а некоторые создаются для решения проблем.
Наибольший интерес для нас представляют организации, предназначенные для решения экзистенциальных жизненных задач. Государство, понимаемое в широком смысле как народ (Россия, Германия и т. д.), обеспечивает устойчивость жизни народа. Это форма существования народа. Любой народ существует не для чего-то. Его существование само по себе самоценно. Семья обеспечивает продолжение жизни рода. Семья, как и народ, не целевая организация. Она также самоценна. Церковь служит, если можно так выразиться, для спасения индивида, личности. Именно в Церкви содержится высшая степень самоценности. Если существование народа и рода имеет ценность благодаря причастности более высокой ценности — жизни человека, то Церковь — организация, в которой решается задача спасения каждого человека, каждой отдельной личности. Эти организации: народ, семья, Церковь — не могут создаваться так, как создаются целевые организации. Они имеют естественную, а лучше сказать, Божественную причину для своего бытия. Источник появления этих организаций — это воля Божия. Народы, как мы знаем из Библии, возникли в результате вавилонского смешения языков. Еврейский народ появился как плод Завета Бога с Авраамом. Семья — благословение Божие, данное Адаму и Еве еще в Раю. Мы знаем также заповедь о том, чтобы оставил человек отца и мать и прилепится к жене. Церковь появляется в результате сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы.
Народ, семья и Церковь составляют основу жизни человека на земле. Они имеют экзистенциальную, жизненную природу в отличие от остальных организаций, имеющих целевое предназначение. В семье формируется личность человека, в национальной жизни и культуре она раскрывается и расцветает, а в Церкви получает бессмертие, обретает вечную жизнь. Именно этот процесс становления и спасения личности оправдывает, наполняет смыслом всю остальную деятельность человечества.
Но, к сожалению, в современном мире поставлена под сомнение ценность этих базовых «экзистенциальных» организаций. Целевые организации в лице мощных транснациональных корпораций, по природе своей вторичные и служебные, сейчас хотят управлять миром. Они хотят навязать свои цели всем. Из служебных организаций они превращаются в господствующие субъекты истории. Такое положение противоречит природе вещей, противоречит Божественному порядку устроения мира.
О проблемах и скорбях
Мы привыкли к термину «проблема» и постоянно употребляем его в повседневной жизни. Мы называем проблемами всевозможные жизненные ситуации, которые содержат что-то плохое, нежелательное для нас. Очень часто мы называем проблемой то, что на самом деле таковой не является. В итоге мы попадаем в ситуацию, когда оказываемся как бы перед неразрешимыми проблемами, что само по себе невозможно. На самом деле проблемная ситуация должна быть осознана как экзистенциальная задача.
В христианской культуре для обозначения этих ситуаций употребляется другой термин — скорбь, искушение. Скорбные моменты не разрешаются, а переживаются.
Когда человек оказывается бессильным перед пришедшей бедой, необходимо отнестись к ней не столько как к проблеме, которую нужно решать, столько как к ситуации, которую нужно пережить. К сожалению, культура творческого продуктивного переживания скорбей совершенно утрачена в современном обществе. А ведь именно эта культура так необходима для того, чтобы научиться быть по-настоящему счастливым.
Именно к таким ситуациям можно отнести слова Божии, обращенные к апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор: 12; 9).
Самым большим заблуждением человечества является иллюзорная вера в то, что с помощью решения проблем можно избежать скорбей и достичь счастья. Была забыта истина: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф: 6; 33). В этой истине устанавливается приоритет задач, позволяющий двигаться к счастью, а не в противоположную сторону.
Когда скорбь становится источником радости и счастья?
Греческие философы были мудры, чтобы понимать цель человеческой жизни как стремление избегать страданий и достигать благополучия. Но их мудрости не хватало, чтобы понять, что неизбежное страдание при определенных условиях может становиться источником радости. Несметное число христианских святых свидетельствует о том, что источником великой радости были их скорбные обстоятельства жизни, и ни за какие сокровища мира они не хотели бы освободиться от этих скорбей, источающих неизреченную радость. Они на деле убеждались в истинности слов Христа: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.: 11; 28). Условием, которое переменяет скорбь на радость, является вера во Христа и деятельное следование за Ним, сознательное несение своего жизненного креста. Понимания тайны этого чудесного преображения скорби в радость так не хватает нам сегодня. Не хватает его не только людям неверующим, но и многим, кто уже пришел в храм.
Еще мы должны понимать, что не всякое страдание спасительно, а лишь то, которое есть выражение воли Божией. Человек, который безрассудно мучает себя, страдает из-за действующих в нем страстей, никакой пользы не получает. Только страдания, сопряженные с верой во Христа и с покаянием, становятся источником благ.
О ситуации в современной жизни
В мире, то есть в светском обществе, все усилия направляются на решение вопросов выживания, и это оборачивается полным безразличием к вопросам жизни и спасения. Экзистенциальное одиночество является следствием погружения в процесс выживания. Отсюда все современные проблемы, бездуховность, безнравственность и преступность. Современный человек хорошо научился решать различные задачи и проблемы, связанные с выживанием, то есть с временным пребыванием на земле. Но он становится совершенно беспомощным перед лицом неизбежных скорбей, сопровождающих процесс жизни, и перед лицом смерти. И поэтому при всем своем техническом могуществе он становится все более и более несчастным.
Источник